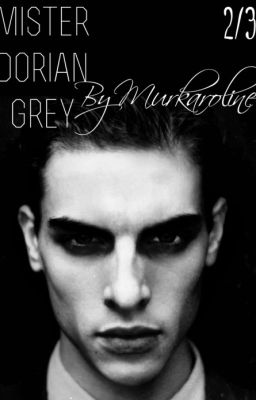obsession
Дориан
Посмотрев на календарь, я отчётливо осознал, что уже три дня никуда не выходил из квартиры. Остывший кофе не мог изменить моего настроения ни в одну из сторон, голова болела от мыслей. Поначалу, на мобильник приходили сообщения от Джессики, с извинениями, просьбами о помощи и даже угрозами суицида. Во всех её текстовых мольбах, а позже голосовых, сквозил крепкий дешёвый бурбон и водка, так что всерьёз я к этому не относился. После той эйфории, что меня охватила, я вдруг почувствовал опустошение и ощутил себя ужасно. Всё перестало лезть в мой мозг, кроме образа мисс Лили Дэрлисон. И даже работа меня не привлекала своим нескончаемым потоком документации, что заполняла мою электронную почту.
Я пытался понять, что всё это значит и ни одна из мыслей мне не нравилась. Надо было уволить её из театра. Она бы ушла неизвестно куда, и я бы тогда не горел желанием ворваться в знакомое мне здание, — из которого я бежал, как чёрт от ладана — найти её, схватить за плечи, чтобы... Чтобы, что? Посмотреть в её глаза? Сказать, что она убила для меня Джессики и заставила чувствовать себя последним человеком? Уволить её? Сделать ей больно? Для чего мне нужна встреча с ней? Не для чего. Пусть она наконец-то начнёт играть, если камнем преткновения для неё всегда была лишь Джессика. Так, а что, если она ей просто чем-то нагадила? А та, возомнив себя великой актрисой, решила, что если Нильсон исчезнет, роли юных девиц и цариц перейдут ей. Я набрал номер заместителя директора, Гарольда Фишера, мечтая узнать, каков сегодня актёрский состав. Если в нём есть имя Дэрлисон, я загадал, что так суждено: она уволена не будет, а я лично приеду и оценю её игру. Может, посмотрев, как она выглядит на сцене, эти чары «ничего не под силу», наконец, спадут?
— Мистер Грей, — весело поприветствовал меня Фишер, — Рад слышать вас, мой юный театрал.
— Не такой уж и юный, — ухмыльнулся я в мобильник, — Гарри, скажи, как там обстоят дела после скандального шоу Джессики?
— Знаешь, без неё всем стало дышать легче. Ты что-то ничего в её защиту говорить не стал... Стало быть, ваши с ней, даже не знаю, как называть... Гм-м!.. Дела. Вот, точно. Ваши дела позади?
— Можно и так сказать, — произнёс я, не поверив сам себе, но моё состояние за последние дни и кофе, который невозможно пить, возвращали меня в реальность и правоту моих слов, — Что у вас сегодня за пьеса? Какой состав?
— О, наш новый режиссёр, самый молодой в театре, мистер Бредли Ривз, решил поставить пьесу новой, подающей большие надежды писательницы, она называется «Двое в спальне». Этот мистер Проныра-Ривз выбрал девочку одну из самых талантливых.
— Неужели? — я непроизвольно задержал дыхание.
— Да, красавица и умница, Лили Дэрлисон... Ты, наверное, даже и не видел эту девушку. Джессика давила её всеми возможными способами, не давала репетировать днём, сцена была свободна только ночью, и, представь себе, они не слали всё к чертям, а работали, как волки.
— Как давно? — тихо спросил я.
— Не поверишь, но Бредли занимался постановкой этой пьесы у нас уже год, Лили и Чарльз Кэллин играли её для пустых кресел. Нильсон опускала пьесу в наших глазах чёрной и неоправданной, как оказалось, критикой. Сегодня уже третий день, как идёт премьера, а люди идут и идут, идут и идут! Некоторые дважды — вот так-то! Видел сам, поэтому уверенно говорю, брат, что это — успех. Это искусство.
— Ты заинтриговал меня, — с какой-то жадной радостью произнёс я, — Могу я попросить тебя о месте в партере?
— Размечтался! Сам директор и режиссёр о таком просить не могут, тут сидят более значимые лица.
— Генеральный директор холдинга мирового масштаба не значимое лицо? — усмехнулся я.
— Да шучу я, шучу, Дориан Грей, — засмеялся он.
— Вот и славно, — улыбнулся я.
— Место на балконе устроит?
— Ох, чёрт тебя...
— Что?
— Устроит. Только в комплекте с лучшим биноклем.
— О, это без проблем, дорогой. Устроим. До вечера, спектакль в семь.
— Я обязательно буду, Гарри.
— Ждём.
— Ага, бывай, — попрощался с ним я.
Положив мобильник на край стола, я глубоко выдохнул и посмотрел на нетронутый кофе. Значит, год репетиций и ни одной минуты славы. Эта девочка, как оказалось, ещё была сострадательна к Джессике. Как она терпела? Сколько в человеке должно быть самодисциплины, самоотдачи и преданности своему делу, чтобы показывать душу пустому залу, ни на что не надеясь... Или, надеясь, мечтая? О чём она мечтает? Чего хочет от жизни? Мировой славы? Тогда, почему театр, а не кино?
Я вышел из кухни и пошёл в спальню. Ноги понесли меня к мольберту, стоящему у панорамного окна. Свет весеннего яркого солнца, белеющего в дымчатой синеве, такого высокого и, будто бы, снисходительного, лилось на улицы и дома, на крыши огромных зданий, которые стремились дотянуться к небесам, неприступным и далёким. Белый лист плотной холщовой бумаги лёг на мольберт, подаренный мне сестрой моего отца, Фиби, прекрасной художницей и верной женой и помощницей в маркетинговом отделе медицинского бизнеса её мужа. Рисунки Фиби всегда были полны особого смысла и живости, неподкупной и естественной красоты, будь то пейзаж, портрет, или реклама медицинского оборудования. Она умеет доносить красками и карандашами всю суть прочувствованного ею, продуманного и увиденного. Когда я заикнулся о том, что хочу научиться так же, она улыбнулась и сказала:
—Я открою тебе один секрет, Дори. Неважно, чем и где ты будешь рисовать. Важно, что ты будешь чувствовать во время этого процесса. Мне всегда трудно было вести дневник, я не могла выразить словами то, что копилось внутри... Но когда я брала уголёк или карандаш, а предо мной лежал белый лист бумаги... Мне больше ничего не было нужно. Главное кроется в том, что хочет показать твоё подсознание, что оно хочет отобразить на бумаге через твои руки. Действуй ими, когда в твоих мыслях абстракция.
И я рисовал. Тёмные стремительные линии, оставленные чёрным угольком, медленно раскрывали взору гордую тонкую шею, хрупкие плечи и лёгкие линии ключиц. Я растушёвывал каждую черту, чтобы сделать изображение ярче, объёмнее, естественнее. Солнце изливало на бумагу свет, показывая плавные переходы каждого штриха, контура, каждого оставленного мною следа. В моих глазах снова вспыхнул образ Лили: я понял, какие хочу изобразить губы, носик, брови и... глаза. Нет, её глаза слишком хороши, чтобы рисовать их, заглянув в эту глубину всего пару раз. Я начал с бровей: тёмные и изящно-широкие, предающие её лицу особую естественность и выразительность, женственность и оригинальность. Я прорисовывал каждую линию, я восстанавливал в памяти воспоминания трёхдневной давности... Чёрт подери, что со мной?! Точно вспышкой мне дало в глаза и заставило отшатнуться от мольберта. Не может быть, я рисовал её! Я смотрел на эту длинную шею, которая говорила об её осанке, на этот смелый разлёт бровей, на аккуратный носик и покатые плечи. На начинающие проявляться глаза, на вырисовывающиеся мелкими штрихами губы и чувствовал, что становлюсь сумасшедшим. Время... уже далеко за полдень и новые переливы солнца предавали её смутным чертам, чёрным на белом, какую-то особенно чарующую грусть и нежность. Я сравнивал её портрет с тем лицом, что помнил.
— Исчезни из моей головы, — прошептал я и разорвал портрет на две части.
«Сумасшедший психопат», — констатировало моё подсознание, и все подспудные мысли зааплодировали ему в поддержку. Пыхтя от раздражения, я чувствовал себя в самом гадком состоянии, которое когда-либо со мною было. Твою мать, что это такое?! Я бросил разорванное мною великолепие в горящий камин в гостиной и вернулся на кухню к своему холодному кофе. Выпив полчашки, я вылил остатки, морщась от гущи и горечи и ополоснув чашку, снова вернулся в гостиную. Сев на пол, я бесстрастно смотрел, как тлела бумага с лицом, которое не покидало мои мысли... Я вытащил «портрет», когда от него остался лишь обугленный уголок с легко изогнутой бровью и кончиками подкрученных густых ресниц. Я изучал его взглядом, долго и пристально. Обычная человеческая женская бровь, обычные женские ресницы. Нет в ней ничего особенного. Но какого я тогда хрена достал этот прожжённый кусок бумаги? Мысленно сплюнув, я встал с пола и пошёл в душ, бросив несчастный остаток её «брови» догорать в пламени. Я просто слишком впечатлительный. Этот позор Джессики сыграл со мной в нелёгкою, я остался без Сабы, естественно — это стресс. Не хватает мне ощущений! Не хватает эмоций! Что за чушь я себе возомнил?! Ведь, с другой стороны, где я смогу найти девушку, нормальную, адекватную девушку, которая могла бы делиться со мной и чувствами, и похотью? Разве настоящая чистая душа, которая может любить, способна беспрестанно хотеть для себя рабства, хотеть для себя боли, если так желает, так скажем, любимый человек? И будет ли любимый человек хотеть боли для того, от кого ждёт светлых чувств? «Нет», — ответил я себе, «спроси у своего дедули», — смеялось над моим анализом подсознание. М-да, прекраснейший совет, учитывая то, что дед не знает, чем так увлечён его любезный внук!
После контрастного душа, обмотавшись полотенцем, я провёл на кафельном полу, остывая, бог весть сколько времени. Вода успела стечь, а влажные волосы более-менее высохли. Моя причёска «после секса», как прозвал Марсель, никогда не требовала особой укладки, не то, что у этого павлина. Марсель был из тех, кто выглядел бы сногсшибательно даже после атомной катастрофы. В стараниях над формированием своего внешнего вида, он выпускал из головы мысли о том, как навести порядок внутри. Я же, войдя в гардеробную, выбирая между белой и серой рубашками, выбрал чёрную, чтобы не дополнять её всевозможными удавками. Мне не нужно было много, чтобы выглядеть так, как я хочу выглядеть. Я хочу выглядеть самим собой, а для этого требуется только две вещи: стиль и аккуратность.
Закурив, я вышел на балкон и отдался любованию покрытому сумерками городом. После душа меня отпустили и мысли, и хандра, и на улицу мне захотелось больше, чем когда-либо. Но внутри я будто чего-то ждал, а точнее, не чего-то, а той минуты, когда я могу сказать себе: «если я не выеду сейчас, то пропущу интригующий спектакль, в котором играет очень уверенная в себе захваленная замдиректора актриса». Нет, я даже не смог дождаться, не смог докурить. Табак был особенно горьким, а воздух в квартире надоевшим и спёртым. Спускаясь на лифте, я вызвал Олсена, своего охранника и водителя, которому дал неделю продыху. Сегодня его последний день «отпуска», так что я от всей души надеялся, что он не обидится, что я завершил его этим же вечером. Вести машину у меня сейчас не было ни азарта, ни сил, ни желания. Внутри стало отчего-то иссушено и серо.
Смотря на проплывающий за окнами пейзаж огромного города, я вдруг остро, до боли в груди ощутил, что мне страшно. И чем можно было это объяснить? Чего я вдруг испугался? Но в ту секунду в моей груди, словно изнутри прорезался тонкий острый импульс. Он извечно был для меня предвестником необъяснимого, смутного чувства, которое я ненавидел. Это чувство было страх. Я откинулся головой на сидение и открыл глаза только у театра, освещённого множеством фонарей, стоящих на высоких, уверенных столбах. Я молился, чтобы этот спектакль раз и навсегда разочаровал меня в её игре, в её глазах, в ней самой. Чтобы это наваждение, из-за которой я предал женщину, бескорыстно дарившую мне истинное наслаждение, оказалось фальшивкой, мелочью, той самой абстракцией, в которой не существует чётких позиций и стремительно-уверенных линий.
«Я пришёл, чтобы разочароваться в тебе, Лили Дэрлисон, не разочаруй меня», — бредил я, бормоча себе под нос, умещаясь на место в пустующем балконе, как бы обособленном от других зрительских мест. Только спустя несколько минут, когда прозвенели все три звонка, а занавес распахнул свои объятия для зрителя, и я увидел силуэт Лили, лежащей в роскошном чёрном пеньюаре на белых простынях, моё одиночество, заполненное эстетической эротикой было нарушено. На балкон вышел ещё один статный мужчина, оглядел меня, совершенно не удивляясь моему нахождению здесь, осторожно пожал мне руку и шепнул на ухо:
— Приятного просмотра, я режиссёр, Бредли Ривз.
Я ответил только лишь, что это честь для меня, но имя своё не назвал: раздался рокот аплодисментов. И, к счастью, больше Ривз не отвлекал меня. Я видел Лили сверху вниз, а такое зрелище открывалось здесь немногим. Совсем немногим... Ох, старый развратник Гарольд постарался, выбрав мне место, ничего не скажешь. Где-то в районе сердца прошла незнакомая дрожь, когда она выгнулась всем телом на постели, потягиваясь. Томно простонала, будто спросонья, изнеженно протёрла глаза. А затем, таким тихим голосом позвала:
— Любимый!..
... А потом этот «любимый» убил её. Не знаю, как я усидел на месте, в том жёстком кресле, пока она погибала в его руках. Я не мог понять, это игра или обкуренный актёр слишком вжился в роль?! Господи, как же я вцепился в плечо Ривза, который, по всей видимости, наслаждался картиной, сукин сын! Встряхнув его, я как ненормальный, спрашивал, раз за разом: «Так должно быть? Он же не убьёт её? Ей ничего не угрожает?». Он смотрел на меня, как на сумасшедшего, но старался повторять чаще, и, как можно громче и разборчивее: «так должно быть». Мне казалось, что он открыто упивался, той болью, которую испытывала героиня.
Лили.
Её глаза были полны слёз, а тело вздрагивало и сжималось на смятых простынях. Какие крики, сдавленные и сухие срывались с её уст, пока он сжимал её шею! Как этот ублюдок накрыл её лицо подушкой, заставив тело конвульсивно забиться и замереть в ужасном облике смерти. Я сидел, как на пытках, как на электрическом стуле, плотно сжимая руками сиденье. Мне хотелось выбежать на сцену, изматерить этого урода, избить его, уничтожить. Только внутренний контроль, только самодисциплина не давали мне сделать это.
Сюжет развивался, изначально, слишком тускло, но это затяжное начало приносило неоценимую пользу — я мог вдоволь налюбоваться ею. На какую-то минуту меня осенило: люди пришли сюда не из-за новой постановки, а для того, чтобы посмотреть на неё. Господи, почему на неё хочется смотреть непрестанно?.. Когда герой-ублюдок сказал: «Я разлюбил тебя. Ты не нужна мне. И никому ты не будешь, мёртвая, нужна», — по моему телу прошёл озноб. Я думал, что это будет быстро. Что это не будет повторением убийства Дездемоны Отелло, но, чёрт подери, всё было гораздо хуже. Грёбанные пять минут длились эти муки. Вернее, я смог выдержать только пять минут. Слова извращённого любителя смерти-режиссёра успокоили меня только на долю секунды, а дальше я не смог выдержать этого кошмара. Я умчался из зала, моё сердце колотилось так бешено, что всё свело у меня внутри. Тяжко дыша, я остановился у колонны в холле театра и откинул голову назад...
Этот Бредли, тот герой-любовник... Они наслаждались смертью, болью? Я называл их в подсознании мерзавцами, упырями, уродами? А сам-то я, чем отличаюсь? Чем я, чёрт возьми, отличаюсь? Что я могу дать Лили или любой другой девушке? Ничего, кроме той боли, которой буду наслаждаться. Но она... эта слишком невероятная Дэрлисон достойна большего! Но почему сейчас я не получал удовольствия от того, что видел? Почему хотел задушить того урода, а не присоединится к этому... процессу? Вздрогнув изнутри, я был готов уже выбежать из театра, но увидел женщину, что везла огромную тележку с цветами: среди них были розы, пионы и лилии... Штук сто, не меньше. Бордовые, как кровь. Яркие, как её губы. С длинными лепестками, как её ресницы — такие длинные, что запросто бросали тень на её щёчки, от белеющего света софитов. Я подошёл к женшине и произнёс еле слышно, протянув тысячу долларов.
— Все лилии в гримёрку Лили Дэрлисон.
— Будет выполнено, сэр, но тут слишком много...
— Мне всё равно. Главное возьмите и сделайте, что я сказал.
— Никакой записки?
— Мне пока нечего ей сказать, — неопределённо прошептал я, пожав плечами.
Слабо улыбнувшись, я вышел прочь из театра. Но уже не бежал, как ошпаренный. Я понял, что хочу на неё смотреть. Хочу видеть её: чаще, хочу слышать её: громче. Хочу понять, что она значит. Что всё это значит.
— Лили, — шепнул я её имя вслух, прежде чем лечь на постель и уснуть глубоким сном.
На следующий день я проснулся как обычно, в пять тридцать девять, но вечером. Как приличный наркоман к дискотеке, к семи я был полностью готов, чтобы принять новую дозу её мастерства, её голоса... И не хотел останавливаться.